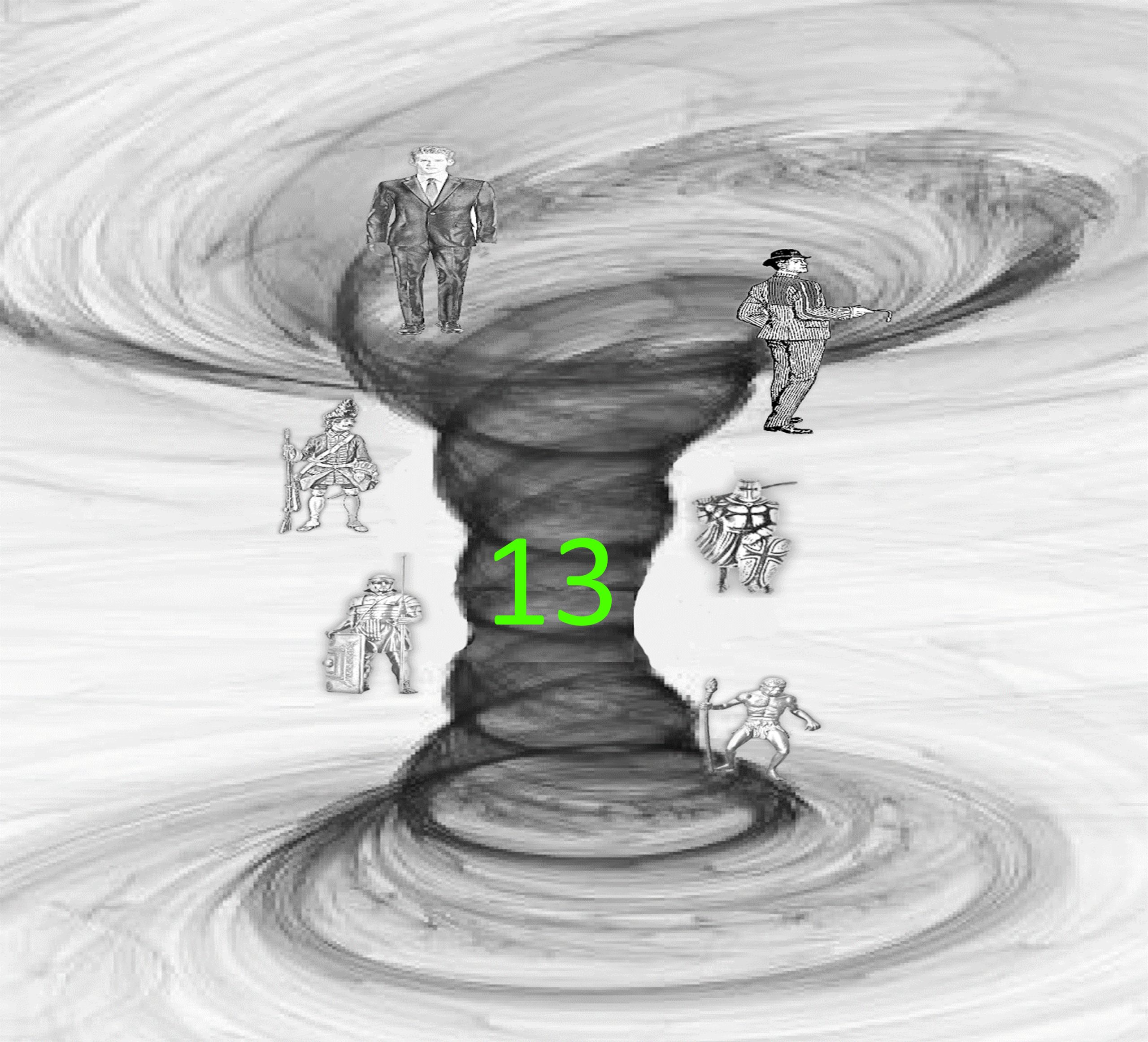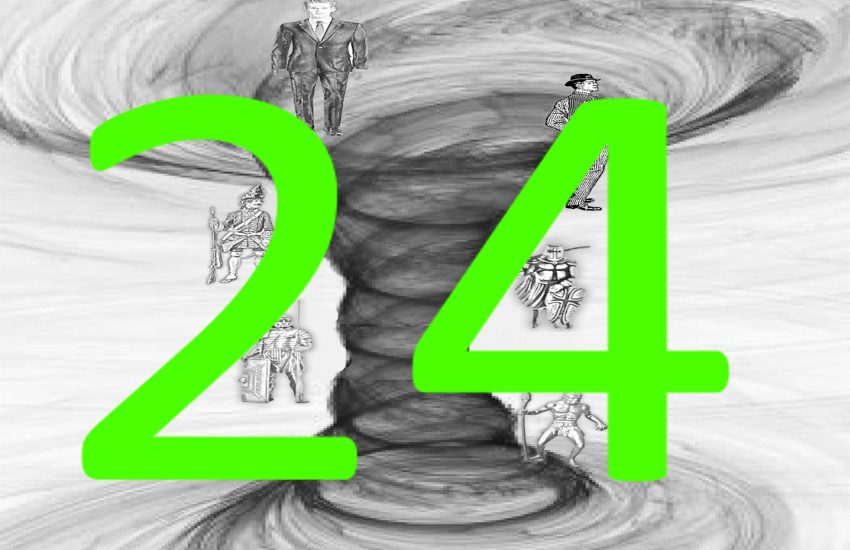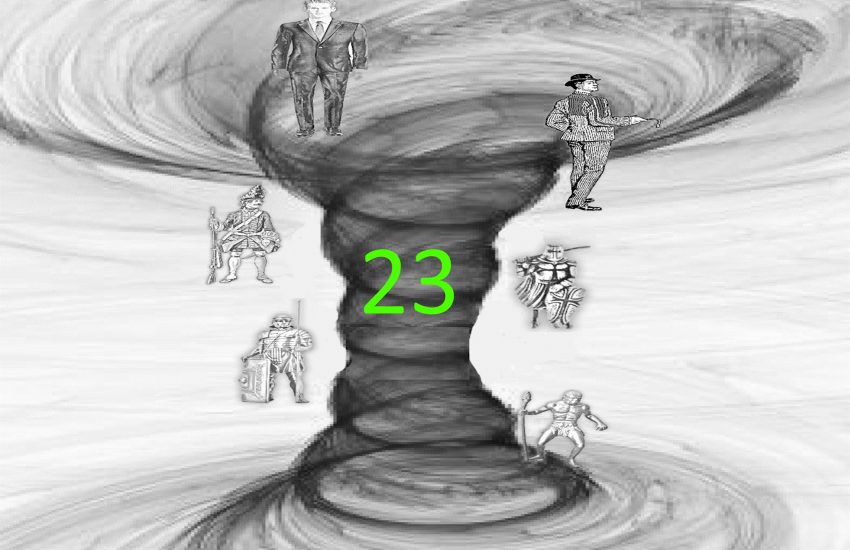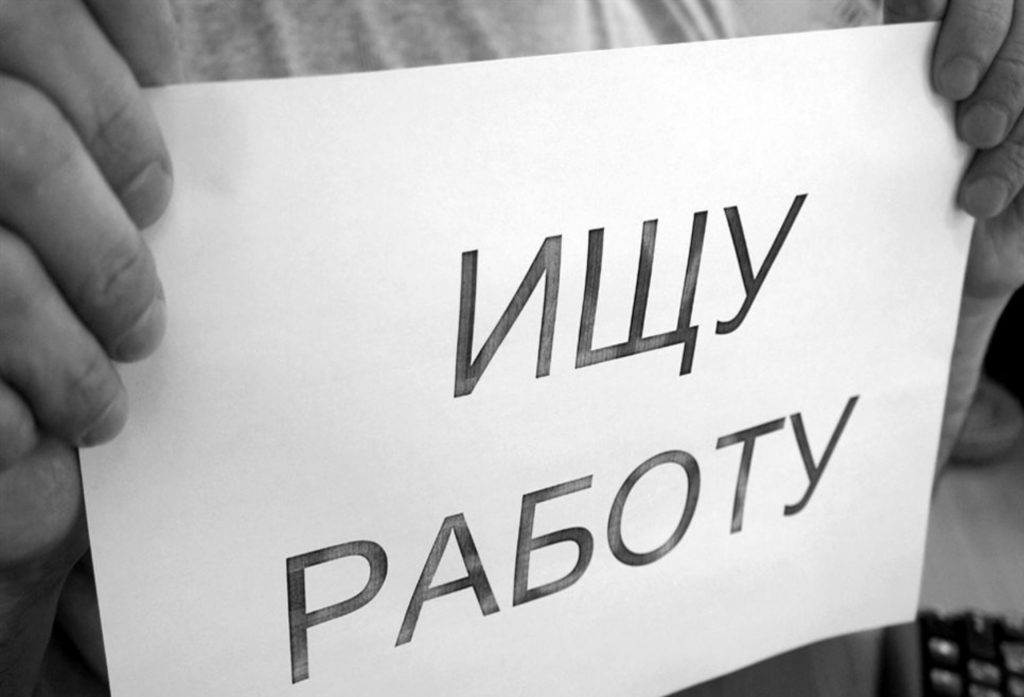Вы не рабы, но вы холопы.
Одной из основных черт античного мира, античных государств, был рабовладельческий строй. С крушением этих государств оставить его в прежнем состоянии не представлялось возможным. Как уже упоминалось, понятие “раб” для формации протогородов было скорее понятием “пленник, временно обязанный отработать свою свободу”, а в массовом содержании рабов не было ни нужды, ни смысла. Многие племена Западной Европы на тот момент вели подсечно-огневое земледелие, то есть полукочевой образ жизни с примитивным способом обработки земли и общественной, племенной собственностью на неё. Вернее, это трудно было обозначить даже как собственность: вместе обработали, вместе вырастили урожай, поделили. В некоторых племенах, конечно, сельское хозяйство было развито лучше, но в сравнении с тем, что было в античных империях, оно всё равно было достаточно примитивным. Мы снова получаем аналогию с творением племён кочевников на территории первых земледельцев. Варвары, захватив новые территории, знакомились с новыми способами обработки земли, да и кочевать здесь было уже проблематично. К тому же местное население жило за счёт земледелия, и было проще поделить эти земли вместе с их жителями между собой и получать установленную долю с крестьян.
Был и ещё один аспект, который играл немаловажную роль. Патриции (и прочая знать, как бы они ни назывались в разных империях) бежали, спасая свои жизни и хотя бы часть имущества, оставляя принадлежавшие им виллы и земельные участки, на которых работали рабы. Рабы мечтали о свободе (не все, конечно, и не везде), но многие встречали приход варваров как освободителей. К тому же, из-под власти своих хозяев ещё при стабильном положении империи рабы бежали к границам, где их не найдут, к тем же варварам. Многих принимали в племя: почему бы не принять новых воинов, тем более если часто сталкиваешься с войсками их бывших хозяев, которых они ненавидят? Беглые рабы восхищались свободой племени, в котором они оказались, и, естественно, при возможности старались подтолкнуть своих новых соплеменников к освобождению своих собратьев по несчастью. При захвате земель рабы встречали их как освободителей и молили, в том числе, помогать в боевых действиях против своих бывших хозяев. Загнать их снова в цепи значило бы получить бунт, с которым особого желания возиться не было. Да и чтобы поддерживать хозяйство той же плантации, нужно было разбираться в аграрных тонкостях, содержать кучу надсмотрщиков и решать множество проблем, которых и так хватало с учётом продолжающихся войн с другими племенами и иных событий. Значительно проще было поступить уже по знакомой схеме. Раздавая большие куски захваченной земли своим дружинникам, можно раздать небольшие поля бывшим рабам: поделить фазенды, и те с радостью будут обрабатывать их сами.
Впрочем, подобная мысль пришла в голову варварским вождям далеко не первым. Рабовладение, имевшее свои плюсы, имело и свои минусы. Возможность обрабатывать большие участки земли и дешёвый рабочий труд сопрягались с множеством проблем. Рабы пытались сбежать, если не сбегали, то работали, что называется, “через пень-колоду”, стараясь больше изображать работу, чем реально что-то делать. Чтобы заставлять их работать, нужно содержать надсмотрщиков, нужно покупать новых рабов, нужно их кормить, где-то содержать и заботиться о том, чтобы они были в физической форме, работоспособными. Несмотря на существующие представления о том, что раб жил в максимально непригодных для жизни условиях, это несколько не соответствует истине. Сохранившиеся записи расходов и прочие документы говорят о том, что рабам было положено достаточно сытное питание, которое содержало не только кашу или хлеб, но было достаточно разнообразным, включая овощи и мясо, хотя бы раз в несколько дней; раз в неделю рабу полагался кувшин вина. Конечно, всё зависело от конкретного хозяина, и условия могли различаться, но вряд ли так уж кардинально. В той же Римской Империи существовали законы, устанавливающие права рабов, которые со временем менялись на всё более лояльные к рабам. Так, было установлено, что хозяин не может убить своего раба без причины, более того, вину раба должен был установить суд, если она не была очевидной (например, побег или покушение на жизнь хозяина). Хозяин не имел права отправить свою рабыню без её согласия работать в бордель или продать её в это заведение. Хозяин был обязан обеспечить пожизненное содержание рабу, ставшему нетрудоспособным (постаревшему или покалечившемуся) у него на службе, в том числе не имел права выписать ему вольную, скинув таким образом его со своего обеспечения. Но, несмотря на наличие таких законов, раб всё же оставался рабом и существом бесправным во многих планах.
В том же Риме существовал вариант освобождения рабов, если они заслужили благодарность хозяина или проявили себя в его глазах в положительном плане. К тому же раб мог выкупить свою свободу. Некоторые категории рабов имели свое имущество и могли зарабатывать деньги для себя, а не только работать на хозяина. Освобожденный раб — вольноотпущенник, мог уехать на свою родину или остаться жить там, где жил. Некоторые могли даже занять довольно высокое положение в городской иерархии и были достаточно богаты. Конечно, это касалось единиц. Но и у обычных рабов был вариант договориться с хозяином (теперь уже бывшим) и получить возможность работать на него уже за деньги или выкупить, взять в аренду у него же участок земли, на котором зарабатывать себе на пропитание, выплачивая часть дохода в качестве арендной платы. Многие рабовладельцы, видя, что освобожденный раб старается значительно лучше, чем тот, который работает из-под принуждения, поняли, что раздать землю (хотя бы частично) рабам и позволить им оставлять часть урожая себе значительно выгоднее, чем возиться с их охраной и принуждать работать. Так возник институт колонов. Собственно, он и стал прообразом крепостного права, как основной формы средневековых отношений между крестьянами и знатью. Варвары, вторгшиеся на земли империи, видели и колонов, и свободных крестьян, и освободившихся рабов. Не так уж сложно было сообразить, что бывший раб, наделенный землей бывшего его хозяина, будет с благодарностью поминать твое имя и будет верным подданным, к тому же земля будет обрабатываться и приносить доход.
Если изначально на таком положении оказались бывшие рабы и колоны захваченных земель, а свои рядовые соплеменники, равно как и свободные крестьяне из местных, оставались свободны и работали сами на себя, то постепенно восторжествовал несколько иной принцип. Деля земли между своими дружинниками, вождь фактически прописывал, что она теперь принадлежит им. Устанавливался принцип, что все, что находится на земле, управляемой дворянином, принадлежит дворянину. Земля есть собственность знати. Конечно, полное закрепощение происходило не сразу, но постепенно прививался постулат, что если земля собственность дворянина, управляющего данной территорией, то любой, работающий на его земле, его арендатор и должен платить подать за использование земли. Крестьянину, выбирая между уходом неизвестно куда и согласием на выплату части урожая, к тому же с аргументом в виде хорошо вооруженного рыцаря в случае возражений, выбор сделать было несложно. Впрочем, в некоторых местах оставались свободные крестьяне, которые все же платили налоги, но не считались “прикрепленными” к земле. Институт крепостничества устанавливался изначально как необходимость выплаты аренды за пользование и обязанность отработать положенное количество лет в качестве гарантии такой выплаты. Естественно, постепенно сроки таких “гарантий” росли, пока не стали пожизненными, а свободные земли прибирались господами к рукам путем выдачи кредита зерном, к примеру, под залог земли свободному крестьянину, или просто отбирались без лишних разговоров. Впрочем, закрепление шло в основном по причине обнищания крестьян и необходимости обращаться за помощью к местным представителям знати, значительная часть крепостных были потомками рабов, так что их положение даже было лучше, чем у их предков.
Следует несколько обратить внимание на разницу положения крепостных в России и в Европе (хотя мы немного и забегаем вперед в историческом этапе). Для Европы, где в основном расселились германские племена, смешавшиеся с местным населением, большая часть которого находилась до этого под властью Рима, вторжение варваров-германцев стало шагом к освобождению и улучшению положения бывших рабов. Рабы в средние века существовали, но их количество было незначительным для Европы и соответствовало скорее привычному числу рабов на уровне формации протогородов. Положение крепостных заметно отличалось от положения рабов. Одним из аспектов этого отличия было отсутствие торговли крепостными (в отличие от России). Установившийся здесь принцип сводился к тому, что вся земля государства, по сути, является землей короля, которой он может распоряжаться по своему усмотрению, дарить и отбирать. Но на тот момент, пока земля находится в руках того, кому ее король подарил, она в полном его распоряжении, в полной его власти. Король может лишить титула и земель, но только за реальные проступки перед королем, например, за бунт или предательство. Да и то не всегда и не во всех случаях. Действовал своеобразный кодекс чести, в котором были установлены как правила, которые обязан соблюдать вассал, и за нарушение этих правил он мог лишиться не только головы, но и лишить своих потомков земли, но так же были правила, которые обязан соблюдать сюзерен, в случае нарушения которых его подданные считали своим правом и даже долгом восстать против него, и за такое действие они не могли лишиться земель, даже если бунт был проигран. Впрочем, как всегда, существовало множество частностей и все зависело от множества конкретных моментов. С таким общим положением в эту схему вписывался и постулат владения землей дворянина, которому она была пожалована. Дворянин не мог ее продать или предать, он мог ею владеть и передавать по наследству. Чтобы земля не дробилась на совершенно крошечные куски, был принят закон майорат или закон неделимости ленов, согласно которому все владение переходило от отца к старшему сыну, живому на момент смерти отца, или к старшему родственнику, ближайшему по кровному родству, в случае если прямого наследника нет. Он так же устанавливал обязанность старшего брата наделить младших боевым конем, оружием и доспехами в качестве их доли наследства.