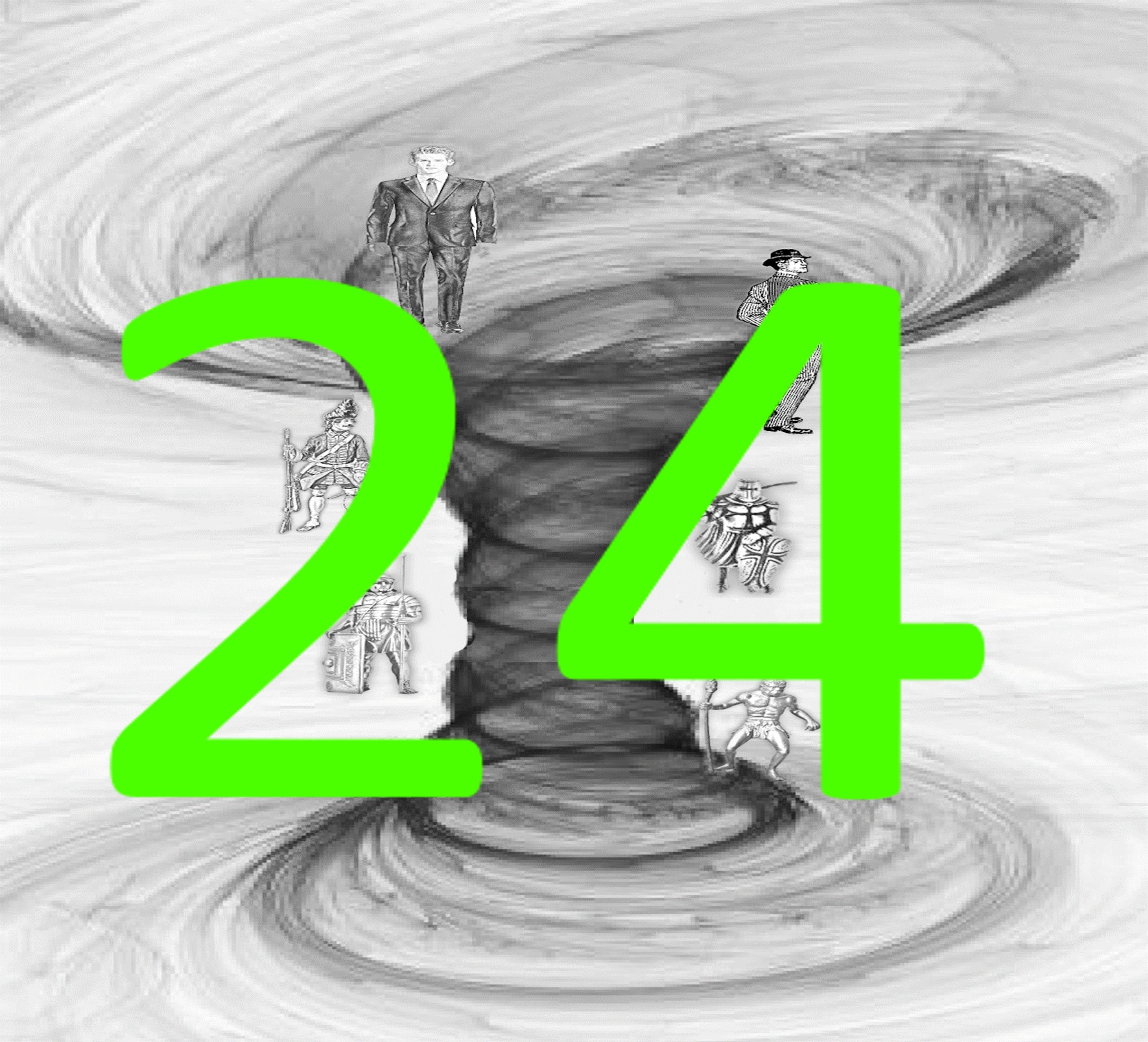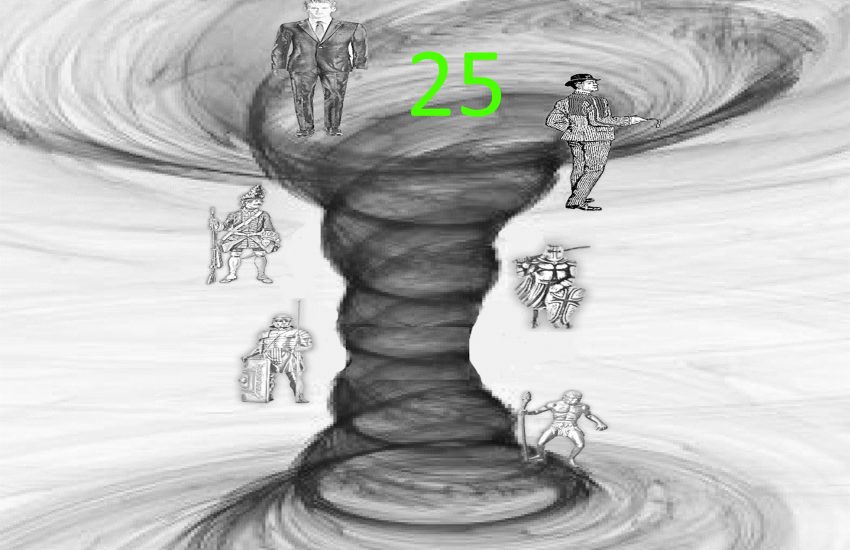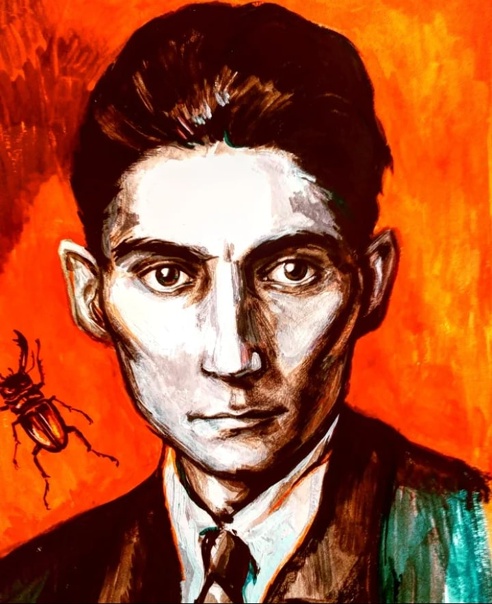Зарождение индустриализации.
Как мы видим, причины возникновения первых парламентов, да и парламентаризма, как такового, ничего общего не имеют с приписываемыми сейчас образами парламентской – представительской демократии. Средневековая знать, продолжая во многом вдохновляться примером Римской Империи, пытаясь уподобить собственные государства, восхищаясь римским правом, римским образом жизни, римским величием, видела в создании парламента подобие древнего римского сената и возрождение традиций Древнего Рима. Несомненно, вдохновленные примером римских патрициев, понимая необходимость более централизованной системы управления в большом государстве, необходимость окончательного отхода от родоплеменных традиций, вернее, их наследия, они стремились воссоздать то, что казалось им великим и незыблемым. Естественно, ни о каком участии низших сословий в этой структуре никто и не думал.
Но реалии времени диктовали иные условия. Если древнеримские патриции являлись исключительно представителями родовой аристократии, а римский сенат являлся исключительно органом контроля аристократического сословия над управлением в государстве, то в условиях средневековья такой парламент в “чистом виде” сформироваться не мог. Разница была уже изначально в условиях и принципах формирования. Если Рим прошел достаточно долгий республиканский период, период аристократической республики, если его первичный царский период был довольно непродолжительным и сформирован, как у большинства древних городов, по принципу – наследный правитель, при котором собирается совет глав родовой знати, то средневековая монархия имела иные корни. Рим, отказавшись от монархии, на первое место возвел сенат, фактически управлявший страной долгий период. При императорах сенат снова низошел на уровень совещательного органа, выдающего рекомендации императору, но продолжал играть значимую роль. Европейские парламенты, может быть, и ориентировались на пример римского сената, но формировались в условиях устоявшейся монархии, являвшейся на протяжении нескольких веков основной и единственной формой правления. Кроме всего прочего, в средневековье играет значимую роль религия и церковь. Даже больше церковь, как территориальный и экономический фактор, а не как религиозный. Монастыри, аббатства, епископы, не только имели религиозное влияние, но и являлись значимыми владельцами земель. Именно здесь начинает обостряться конфликт между монархией и церковью. Естественно, рассчитывая, что церковные владения имеют территориальную принадлежность к королевству, король воспринимает их как территориальных вассалов, пусть и с религиозной спецификой и своими полномочиями. Церковь пытается отстоять не только свою независимость перед короной, но и свое превосходство над ней. Попытка утвердить положение церкви как единой структуры, стоящей над королями и являющейся высшей не только духовной и религиозной властью, но и властью, имеющей светские функции, установить иерархию, где церковь (как общеевропейская структура) стоит над подчиненными ей королевствами. Возможно, такое положение было бы реальным и возможным, да и достаточно долгий период примерно так и воспринималось, если бы церковь действительно была единой структурой. Но по факту все происходит иначе. Оставаясь теоретически целостной организацией, подчиненной Папе Римскому, удерживая, в том числе и путем борьбы с еретиками, целостность религиозных канонов, церковь сама раскинута на слишком большой территории, не имеющей ни национального, ни структурного единства. Местные епископы и аббаты во многом зависят от местного короля. Духовенство не только втягивается в местные интриги и оказывается замешано в междоусобных конфликтах, обладая реальными землями, находясь в окружении территорий местной знати, они во многом сами оказываются на положении дворянства, с тем исключением, что их титул является не наследным, а переходит к другому представителю церкви. В условиях соседства с баронами и графами, которые, несмотря на свою набожность, не против разграбить монастырь, если так сложатся обстоятельства, имея свое войско для защиты, применяя его не только в целях защиты, но и вмешиваясь в междоусобицы, церковники становятся по факту на одну ступень с рыцарями. Естественно, что при формировании первых парламентов, возникает вопрос о включении в эти собрания не только представителей знати, но и представителей духовенства. Парламент становится органом сословным. Органом, представляющим интересы разных сословий, а не одного единственного, как это было в случае с сенатом.
Но в эту игру включится еще одна сила. Сила, которая не существовала во времена античных империй, вернее, не имела такого значения, которое она заняла при средневековье. Как уже говорилось выше, начинается постепенный переход от натурального хозяйства к централизации производственных процессов и концентрации их в городах. Аналогичное действие происходило и в момент перехода от протогородов к городам, в дальнейшем ставшим основой античных империй. Но процессы имеют коренное отличие. Вернее, даже несколько факторов, позволяющих их разделить на совершенно разные экономические процессы.
Во-первых, превращение протогородов в полноценные античные города происходит в условиях первичного разложения родоплеменного строя и в условиях активного развития рабовладельчества. В данном случае идет процесс социализации производства на основе его укрупнения и стандартизации, причем этот процесс охватывает в первую очередь сельское хозяйство. Ремесленники концентрируются, как и в случае средневековья, в городах. Но важное значение имеют в производстве, даже в массовом, те же подобия мануфактур, но рассчитанные в первую очередь на количество, а не на усовершенствование процесса производства. Что добыча ресурсов, что массовое производство в основном опираются на использование рабского труда. Несмотря на то, что уровень развития техники и возможность использовать инженерные приспособления даже больше, чем в раннем средневековье, использование рабов более выгодно, чем приобретение сложных и дорогостоящих механизмов.
В средневековье условия иные. Рабский труд, конечно, используется, но стал значительно менее выгодным. По той причине, что развалилось крупное земледелие, обработка земли перешла от фазенд и плантаций к небольшим участкам. Феодальное дробление только способствует дроблению экономическому, дроблению тех же земельных участков в том числе. Добыча ресурсов так же теряет массовый характер и становится делом более локальным. В таких условиях труд, пусть и относительно свободного, стремящегося и имеющего возможность улучшить свое финансовое положение человека, становится более оптимальным, чем использование рабов. А там, где сохранились крупные шахты или иные добывающие производства, используются те же рабы или заключенные, которые все чаще исполняют роль рабов, замещая их. Да и рабство и морально и экономически себя изжило к средним векам, как минимум на территории Европы.
Вторым важным моментом становится несколько иной статус городов. Если для античного периода города сами являются центрами и основой власти, основой образования государств, то специфика средневековья ставит города на второй уровень, отодвигая их значение как политических центров в сторону. На первое место выходит дворянство. Дворянство, в отличие от античности, не столь привязанное территориально, к крупным центрам. Даже многие правители и короли, которые владеют городами, строят свои крепости-замки за их пределами и предпочитают оттуда управлять и контролировать. Причиной становится специфика образования средневековых государств, как осколков античных империй, захваченных пришлыми варварами. Население городов в основном бывшие жители римских провинций, в то время как знать в основном представители завоевателей. Сельское население оказывается зачастую более лояльным и быстрее смешивается, так как освобожденные рабы и рядовые воины-варвары, получившие свои наделы земли, не имеют принципиальных причин для разногласий и быстрее находят общий язык. Знать опирается больше на свои укрепленные центры-замки и ориентируется на землю и крестьян. В этих условиях города получают все больше самостоятельности и оказываются под контролем не столько знати, которая удовлетворяется получением с них налогов и дани, сколько под управлением зажиточных жителей самого города. Управление становится более коллективным, так как установление личной власти в городе входило бы в противоречие с официальной властью над городом того или иного монарха или герцога. Сами же дворяне слишком заняты войной и решением других проблем, чтобы еще и вникать в жизнь городов и заниматься решением их экономических и организационных вопросов. В этих условиях формируются собственные городские муниципалитеты, мэрии и прочие органы самоуправления. Города, не имея возможности претендовать на владение земельными участками в большом количестве и далеко от городских стен, являясь местом концентрации торговли и ремесленников, становятся совершенно отличными от остальных территорий в экономическом плане образованиями. Внутренняя организация городов больше ориентируется на торговлю и на производство. А необходимость защиты интересов и установления каких-то общих правил приводит к появлению гильдий.