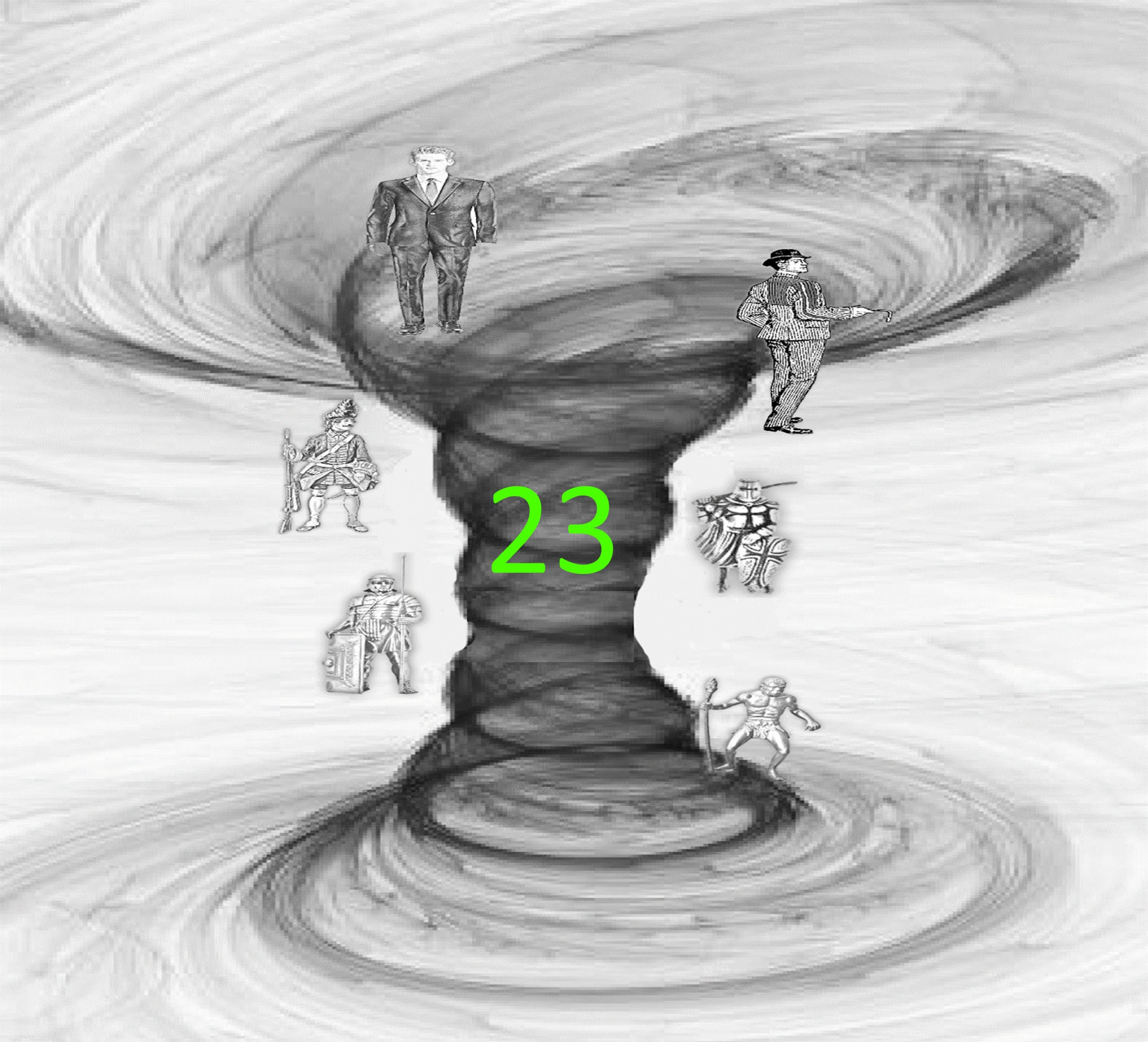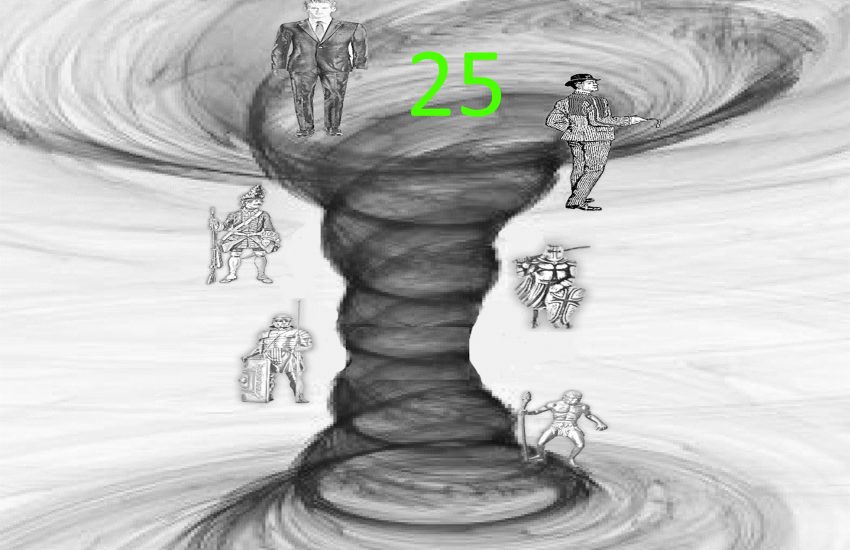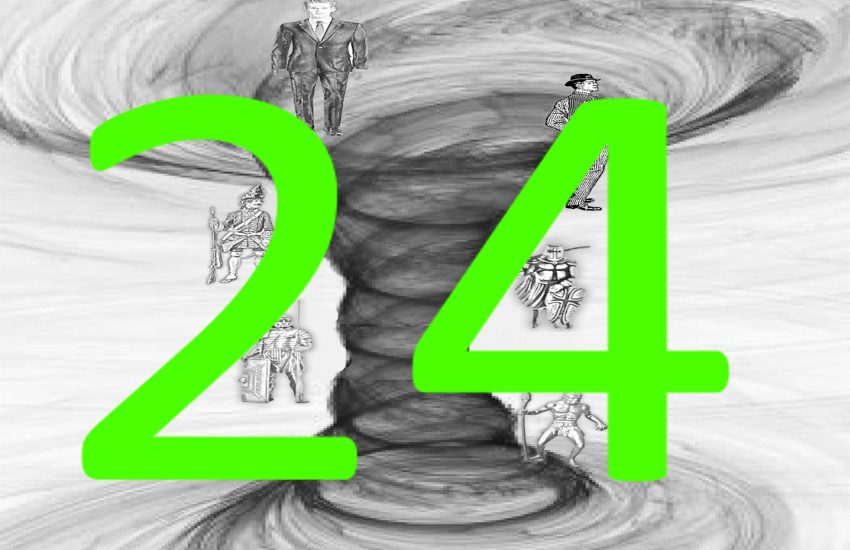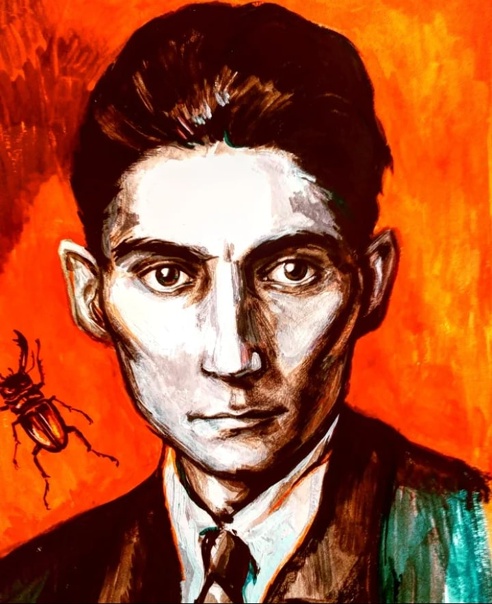Естественно, пример афинской демократии являлся уникальным не только для общемировой истории, но и, пожалуй, для самой Эллады. В разных полисах были разные типы правления; их разнообразие, наверное, может быть представлено всеми возможными вариантами. Присутствовали и аристократические, и олигархические республики, и откровенные монархии. Хотя не всё, что могло считаться и называться, скажем, монархией, таковой являлось в чистом виде. Одним из ярких примеров “монархии” является Спарта. Не говоря уже о том, что в Спарте было нетипичное царское двоевластие, то есть в Спарте правили два царя, один из которых был обязан всегда находиться в городе и заниматься его защитой. Но принятие законов всё равно было в руках народного собрания, правда, только принятие: собрание могло либо принять, либо отвергнуть предложенный закон; предлагать его могли только представители высшего сословия, из числа которых и избирались спартанские “цари”. Сами эллины, те же афиняне, называли спартанское управление олигархией, хотя это скорее была военная аристократия, а не олигархия. Собственно, разница между аристократией и олигархией не столь велика в принципе, но имеет значительное отличие, которое в более поздние времена стало крайне важным. И то, и другое — власть, находящаяся в руках относительно небольшой группы людей. Основная разница в том, как формируется эта группа.
Если в случае аристократии основным значением является происхождение человека, то есть его принадлежность к аристократическому роду, независимо от его финансового положены(аристократ может обеднеть, стать практически нищим, но всё равно оставаться аристократом), то в случае олигархии основным становится имущественный ценз человека, наличие у него имущества и денег. Во главе такого общества оказываются наиболее богатые люди, обладающие значительным имуществом и влияющие на решение государственных вопросов в своих интересах и ради своих выгод. И неважно, что предки этого человека были нищими или рабами, если у него есть деньги и их много, он — почётный гражданин и он среди тех, кто решает государственные дела. В современном мире широко распространена скрытая олигархия или плутократия, когда у власти находятся не сами олигархи, а политики, на которых имеют влияние олигархи, от прямого подкупа, до более сложных способов воздействия. Выборная представительская система в любом случае оказывается под воздействием капитала, и всегда выборные представители начинают представлять интересы олигархической группировки, хотя продолжают изображать, что представляют интересы большинства и своих избирателей.
Парламентаризм как бунт аристократии.
Некоторые, говоря о парламентаризме, возводят его ко временам Древнего Рима и к римскому сенату. Но это совершенно неверно. Римский сенат не был парламентом в полном смысле этого слова., хотя изначальное понятие парламента мало чем отличалось от представления о римском сенате. Римский сенат был собранием глав патрицианских родов. То есть это исключительно аристократический орган, аналогичный устройству шумерскому совету домов. Сенаторы Рима были патрициями, главами патрицианских родов. В более поздний период, через возмущения и протесты плебса (просто населения Рима, рядовых граждан), в сенат были введены трибуны, как представители интересов плебса. Но они, несмотря на достаточно большие полномочия, всеё же имели ограниченные возможности, да и число их было явно несравнимо с числом сенаторов. Но, однако, вернёмся к средневековью. Около тысячи лет раннего средневековья ушло на процесс становления монархии и превращение племенных вождей в полноценных королей. Период максимальной раздробленности и максимальной самостоятельности вассалов, период максимальной индивидуализации общества. Ближе к середине средневековья, к рубежу первого тысячелетия, большинство государств, уже являются всё же не подобием союзов племён, а более или менее сформированными монархиями. Это если говорить о средневековой Европе. В западной Азии как раз идёт распространение ислама и возвышение исламских государств.
Бывшие кочевники арабы обретают свою государственность и захватывают обширные территории. Докатываются эти волны и до Индии с Китаем, хотя там может быть своя специфика, и схожие события могут не совсем совпадать по времени с происходящими в Европе и ближней Азии. Европа. Расцвет рыцарства. Время формирования стран примерно в знакомых нам границах. Англия пережила нашествие норманнов и превращается не без их участия в единое королевство. Франция и Германия обретают свои близкие к современным границы, хотя Германия всё ещё грезит величием Рима и пытается восстановить римскую империю. Испания оказалась почти полностью под властью мусульман. Византия доживает свои последние века. Русь приняла крещение и тоже формирует единое государство, хотя пока ещё феодальная раздробленность Руси мало чем отличается от таковой в Европе. Укрепление и централизация власти европейскими монархами ведёт к снижению значения аристократии, к оттеснению её от власти, от реальной власти.
Если изначально короли рассчитывают на поддержку и помощь своих вассалов, одаривают их различными привилегиями, то со временем, укрепляя экономику, находя новые источники финансирования, развивая торговлю, короли становятся более финансово независимыми, а появившиеся средства позволяют сперва начать прибегать к услугам наёмников, а позже отряды наёмников, начинают постепенно превращаться в регулярную армию. Более не завися от аристократии и в военном плане(как минимум, не завися только от аристократии), монархи начинают постепенно урезать права и вольности дворянства. Часть дворянства готова принять новое положение, часть цепляется за старые привилегии. Королю нужны деньги и нужен жёсткий контроль за происходящим в стране, нужны гарантии преданности вассалов. Но пока у самих вассалов в руках реальная власть .— а не только экономическая, не только доходы с их территорий ., но и право самостоятельного управления, принятие своих законов, — пока вассальские уделы больше напоминают королевство в миниатюре, эти королевства в любой момент могут захотеть самостоятельности или перейти к другому сюзерену. Единственный способ надёжно держать их в руках. — это править самому, превратив их владения не более чем в источник доходов для дворян; можно даже доплачивать самому за службу, — деньги из королевской казны только укрепляют готовность продолжать службу.
Но далеко не все дворяне готовы принять новые правила, и некоторые вступают в прямую борьбу; борьба индивидуализации и социализации общества из чисто экономической и социальной превращается в военную. С одним из таких событий связано появление английского парламента. Поводом стали попытки короля обложить вассалов налогами. Вернее, новыми налогами. Что вызвало недовольство знати и в конечном итоге привело к требованию принимать подобные решения с согласия совета дворян. Оказавшись в затруднительной ситуации по другим причинам, король подписал договор с вассалами, гарантируя им созыв такого совета и решение на нём наиболее важных государственных вопросов. Но через какое-то время решил отказаться от заключённого договора, что привело к открытому восстанию против короля. В результате король проиграл войну своим подданным и был вынужден принять их условия, которые теперь расширились. Совет, обсуждающий дела королевства, было решено проводить регулярно, а кроме рыцарей в него вошли священники, и несколько позже были введены представители городов. То есть граждане, не имевшие отношения ни к духовенству, ни к дворянству. По сути, принцип был прост: собирались те, кто имел реальный политический и экономический вес в стране, чтобы иметь возможность высказать своё мнение по поводу тех или иных вопросов, касающихся в том числе и их самих. На фоне продолжающегося стремления королей к абсолютизму, на фоне их продолжающегося укрепления собственной власти, привилегии и свободы дворянства оказываются всё чаще отодвигаемыми в сторону.
Абсолютизм — это не только форма неограниченности личных возможностей правителя, но и проявление необходимых имперскому устройству страны. Феодальная раздробленность вполне вписывается в существование небольших королевств,; такие королевства могут позволить себе построение на принципах вассалитета и удерживаться на личных качествах короля и преданности, верности ему вассалов. Принцип “лучший среди равных” — принцип вождя. Такой тип объединения подразумевает регулярный или очень частый личный контакт правителя с другими значимыми фигурами и регулярное подтверждение своего права считаться “лучшим”. Каким образом это представление о “лучшем” подтверждается — другой вопрос. Удачные походы на соседей или личная мудрость и рассудительность, справедливость в принимаемых решениях — не суть важно. Король правит, пока он устраивает своих вассалов. Но сам принцип военного вождя в качестве правителя, коим по сути и являлся король раннего средневековья, подталкивает к одной из форм доказательства своей королевской значимости: военные походы и завоевания, подавление бунтов недовольных и присоединение новых территорий. Эпоха средневековья — это эпоха войн. Конечно, в другие времена и при другом устройстве государства, войны не были редкостью и, возможно, происходили не реже, но имели чаще другие причины и преследовали другие цели. В это же время, когда на первом месте стоит военная доблесть и военная знать требует возможности покрыть себя славой(ну и трофеи далеко не лишние), мирное существование королевства создаёт больше проблем, чем пользы.
Собственно говоря о стремлении знати раннего и среднего средневековья к войнам, ярким примером является ситуация, связанная с крестовыми походами. Крестовые походы возникали неоднократно. Опираясь на религиозный фанатизм и прикрываясь высокими, названными целями, решали они вовсе не религиозный вопрос и не вопрос завоеваний или расширения территорий. Крестовые походы стали главной отдушиной для дворянства, позволяя “спустить пар” и перенаправляя жаждущих славы, почестей, а также богатой добычи рыцарей в дальние страны, где можно было не только покрыть себя воинской славой под благородным предлогом религиозного плана, но и получить себе земли, а то и создать свое королевство. Завоевать себе владения стало одной из главных “мечтаний” рыцарства тех времен. Конечно, владельцы собственных феодов, не искавшие новых земель, тоже оказывались под знаменами крестовых походов, но основным контингентом этих войск становились младшие сыновья дворян, получивших благородное имя и обученных воевать, но лишенных земли по законам феодов.
Взрывоопасное сборище жаждущих славы и еще больше жаждущих добыть себе мечом то, чего лишились в качестве наследников, умеющих держать меч и ищущих кому бы его продать подороже, вся эта компания становилась топливом для разнообразных бунтов и восстаний, с готовностью поддерживала мало-мальски обоснованные притязания потенциальных королей на трон и вообще была готова махать мечом где угодно и против кого угодно. Перенаправить их куда подальше и дать соблазнительную и громкую цель, стало более чем необходимым действием для сохранения относительного спокойствия в Европе. Но войны, затеваемые вождями-королями с соседними странами, вели не только к грабежам и получению славы победителями. Они давали завоевания, давали присоединение новых земель к королевству. Для королей-вождей это было замечательное средство, дающее возможность наградить безземельных рыцарей, дать дополнительные феоды отличившимся, повысить чей-то титул, присоединив к его владениям более обширные территории,; добыча и возможность гордиться своими победами были небольшим приятным бонусом ко всему этому. Но чем сильнее становился такой король, чем больше земель переходило под его управление, тем больше стекалось к нему желающих служить рыцарей, и тем больше возникала необходимость новых завоеваний. Рост королевств основывался на необходимости удовлетворения стремлений военной знати. Но именно в связи с ростом территорий, оказавшихся под управлением одного короля, возникала необходимость реформировать устройство государства. Поддержание прежнего положения вождя и “лучшего среди равных” становилось проблематичным. Большие территории означают большие расстояния. Конечно, можно держать при дворе значительное количество рыцарей и водить их в походы, но управление землями, которые были розданы в качестве наград, требовало управления, и многие рыцари оказывались перед выбором: отойти от службы и заняться своим приобретенным поместьем или оставаться при дворе, рискуя, тем, что поместье придет в запустение или окажется еще в чьих-то руках. Да и присягнувшие королю побежденные тоже без присмотра неизвестно какими идеями озадачатся.
Большие земли требовали введения контроля за ними, требовали создания структуры, позволяющей держать под присмотром местных феодалов на удаленных территориях и проводить устанавливаемую королем политику. А это уже шаг к централизации и шаг в сторону абсолютизма. В очередной раз можно увидеть, как механизм, направленный на поддержание существующего устройства, оборачивается проявлением характеристик устройства иного, по сути противоположного изначальному. Дальнейшие шаги по укреплению королевской власти приводят королей к мысли, что пытаться дальше быть “лучшим среди равных” – идея не самая подходящая, как минимум не осуществимая в условиях укрупняющихся территорий. Начинается борьба короля, укрепляющего свою власть, с одной стороны, и знати, отстаивающей свои привилегии, с другой стороны. Как раз результатом такой борьбы становится появление первых парламентов. Именно аристократическая знать становится той силой, которая пытается ограничить короля в его бесконтрольности власти. Именно аристократия становится той силой, которая, защищая собственные интересы, пытается как-то урегулировать в условиях формирующейся новой реальности больших государств, необходимость централизации управления и желание знати утратить свои позиции.